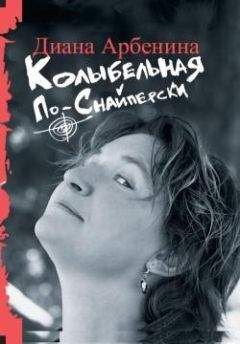Татьяна Шеметова - Пушкин в русской литературе ХХ века. От Ахматовой до Бродского
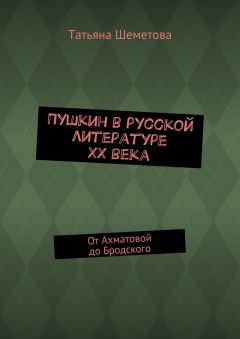
Помощь проекту
Пушкин в русской литературе ХХ века. От Ахматовой до Бродского читать книгу онлайн
Образ Пушкина как «солнца» русской поэзии и культуры особенно актуален для начала ХХ в. К нему обратились, например, О. Мандельштам в статье «Пушкин и Скрябин» (1915) и В. Ходасевич в юбилейной речи «Колеблемый треножник» (1921). В том и в другом случае образ связан с тревогой за судьбы русской культуры, то есть актуализируется коннотация «закатившегося солнца». В трактовке Мандельштама, смерть поэта – квинтэссенция его жизни: «Если сорвать покров времени с этой творческой жизни, она будет свободно вытекать из своей причины – смерти, располагаясь вокруг нее, как вокруг своего солнца, и поглощая его свет»51. Солнцем именуется телесная оболочка, что подчеркивает значимость не только бессмертной поэзии, но и смертной человеческой сущности Пушкина: «Мраморный Исаакий – великолепный саркофаг – так и не дождался солнечного тела поэта. Ночью положили солнце в гроб, и в январскую стужу проскрипели полозья саней <…>». Современный исследователь И. Сурат указывает на то, что Мандельштам, который не стал выступать на вечере 1921, посвященном очередной годовщине смерти Пушкина, вылившимся в «тризну по уходящей культуре», осуществил не состоявшееся в 1837 г. отпевание Пушкина в Исаакиевском соборе, подобно тому как Пушкин заказал панихиду в годовщину смерти Байрона52.
Ходасевич тревожился о «затмении пушкинского солнца»53, сначала недолгом, связанном с влиянием статей Д. Писарева54, затем – значительном, связанном с революционными преобразованиями, которые, согласно его предвиденью, могут совершенно изменить восприятие Пушкина. В духе тютчевских строк о «первой любви» России поэт говорил о последних часах «близости» с Пушкиным, которая, возможно, никогда не повторится.
По замечанию М. Безродного, уподобление Пушкина солнцу в ХХ в. становится ритуальным: «Кому – быть солнцем. Имя – Пушкин» (Бальмонт); «Любовь! Россия! Солнце! Пушкин!» (Северянин); «Ты гений, солнце, Царь-поэт!» (Арский); «Солнце Поэзии Русской – взошло!» (Нелидова-Фивейская и Голохвастов); «В стране, где кровью преступлений / Весь облик прошлого залит, / Лишь твой великий, светлый гений / Сквозь сумрак тягостных мгновений / Еще сияет и горит» (Троцкая)»55.
В конце века А. Битов отметил и прокомментировал в своем эссе сходство наполовину комплиментарной, наполовину уничижительной оценки Булгариным последнего этапа творчества поэта со знаменитой «формулой» в некрологе В. Ф. Одоевского: «„светило, в полдень угасшее“ и „солнце нашей поэзии закатилось!“ – вот трагический образец разрыва формы и содержания! <…> Смерть человека потрясла всех, смерть поэта не всех, потому что первая формула относилась к нему живому. Первая была произнесена еще современником, вторая – уже потомком»56.
Как видим, писатель связывает мифему Пушкина-солнца с проблемой безвременной кончины поэта, которая, по мнению многих современников и потомков, не позволила ему довершить призвание: «„Солнце“ – пожалуй, единственное для них [Булгарина, Одоевского, Уварова – Т.Ш.] общее слово, хотя бы и в смысле „полудня“ и „половины“ – незавершенности и недоделанности»57. Этой тенденции приуменьшения созданного Пушкиным по причине краткости его жизни, сохранившейся и в конце ХХ столетия, А. Битов противопоставляет свою «писательскую пушкинистику». Кризису пушкиноведческой науки посвящена книга И. Сурат с многозначительным названием «Вчерашнее солнце»58.
Пушкин – наше все. Данная формула А. А. Григорьева живет в национальном сознании уже как бы в отрыве от ее автора. Эту тенденцию отметил в 1922 г. Ю.Н.Тынянов, с негативным оттенком назвав ее «некоторым знаменем»59 современного ему пушкиноведения. «Наивный телеологизм» как авторитетных ученых, так и следующих этой тенденции журналистов, по мнению Тынянова, обедняет и «науку о Пушкине» и литературоведение в целом.
Если обратиться к первоисточнику, статье Григорьева «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» (1859), то уже по заглавию видно, что она посвящена не столько Пушкину, сколько развитию русской литературы первых десятилетий XIX в. Центральную же роль Пушкина в русской литературе, по мнению критика, определяет способность воплотить в своей натуре национальное сознание (смирение перед действительностью и одновременно готовность к протесту). Современный исследователь, анализируя особенности «григорьевского мифа», отмечает, что высказывание «начинается с противительного союза60, поскольку оно – реплика в споре <…> с современной Григорьеву критикой, где значение Пушкина либо отрицалось, как у нигилистов, либо сужалось, как у эстетического направления <…> григорьевские слова – все-таки не формула <…> а заостренная в пылу полемики <…> точка зрения»61. Критик раскрывает свою позицию, когда говорит, что Пушкин все наше (акцент на наше, а не на все), «которое связывает раскол общества на допетровское и послепетровское»62. В статье Григорьева нет утверждения, что Пушкин – первый и последний совершенный поэт. Апокалиптичность мышления, развитая у его современника Ф. М. Достоевского, была чужда Григорьеву. Итак, несмотря на кажущуюся тотальность фразы, ставшей мифемой, на деле Григорьев являлся противником светского «обожествления» поэта.
Как показывает опыт исследования литературы ХХ в., «крылатая фраза „Пушкин – наше все“ становится эмблематическим знаком выражения постмодерности»63. При этом «кощунственно-шутовское, иронико-игровое звучание этой сентенции» (которое, по мнению исследователя, она приобрела в конце ХХ в.) соперничает с серьезным содержанием этой максимы. Вспомним, например, конкретизацию формулы Григорьева в эссе А. Битова: «Рассчитываясь с ним, мы отвели ему первое место во всем том, чему ни просоответствовали сами. Он не только первый наш поэт, но и первый прозаик, историк, гражданин, профессионал, издатель, лицеист, лингвист, спортсмен, любовник, друг…»64.
Всемирная отзывчивость. Характеристика поэзии и личности Пушкина стала итогом многолетних раздумий Ф. М. Достоевского; слова, ставшие многократно повторяемой формулой, впервые прозвучали в его речи, произнесенной на торжествах по случаю открытия памятника поэту (1880). Мифотворческая природа этой речи проявилась в самом способе произнесения, зафиксированном современниками: «Да, это была не речь, а скорее долгое заклинание, словесное колдовство»65.
Результатом этого «колдовства» стал «духовный», неортодоксально христианский образ Пушкина, который активно развивался в философской и религиозной пушкинистике серебряного века. После длительного забвения в советской литературе и критике Пушкинская речь Достоевского вновь вернулась в зону активной читательской рецепции в начале 80-х гг. ХХ в. благодаря статье В. Кожинова «И назовет меня всяк сущий в ней язык…»66. В этой статье критик рассуждает о всечеловечности как о сущностной основе русского национального самосознания, которую он понимает как способность воспринимать другие народы как часть собственного национального существа. Именно этим он объясняет способность русской души понять и принять в себя самосознание других народов, что проявилось, по Достоевскому, в творчестве Пушкина как «всемирная отзывчивость».
Способность русских воспринимать чужую точку зрения, в нетривиальной трактовке Кожинова, проявилась даже в таком неоднозначном факте русской истории как призвание варягов на царствование. Куликовская битва, по мнению критика, опирающегося на труды Л. Н. Гумилева, – не битва русских с татарами (которых было много в русском войске и в его командовании), а битва русского и других народов с «агрессивной космополитической армадой» европейских работорговцев, купивших Орду67.
Ощущение равноправия русского народа со своими соседями слышится Кожинову в стихотворении «Я памятник себе воздвиг…», строка из которого стала заглавием его концептуальной статьи. Иначе говоря, поскольку финн, тунгус и калмык – «равноправные создатели русской государственности», они, по логике Кожинова, и «равноправные владетели русской поэзии»68. Эта точка зрения, являющаяся медиатором между бинарными оппозициями советского интернационализма и постсоветского национализма, вызвала в период публикации статьи «заметную общественную реакцию: за потрепанными книжками «Нашего современника» <…> со статьями В. Кожинова <…> записывалась очередь в читальных залах библиотек»69.